Воля – это ещё не свобода
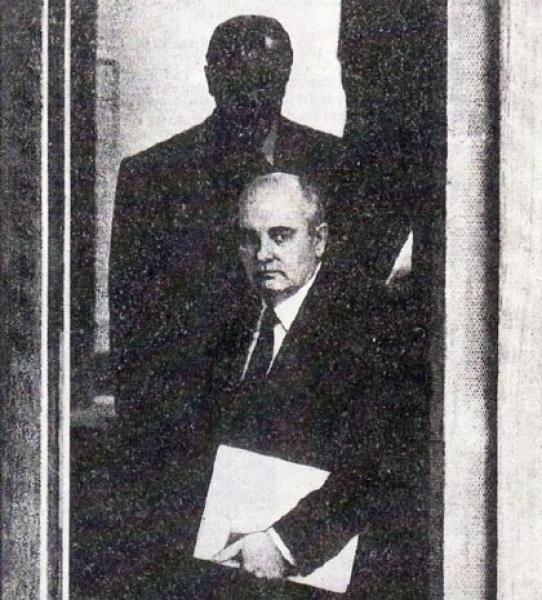
Человек, одетый в чёрном,
Учтиво поклонившись,
заказал
Мне Requiem и скрылся.
А. Пушкин
Цезарю многое не
дозволяется потому, что ему
дозволено всё.
Сенека Младший
Приговор системе, неведомый генсеку
Писать сегодня об эпохе Горбачёва по-человечески трудно: сейчас, когда этому человеку тяжело, хочется прежде всего сказать ему спасибо за то, что он сделал для нашей свободы более, чем кто-либо иной, и не только его вина, что мы не смогли ею в полной мере воспользоваться.
Неважно, что Горбачёв делал это не всегда сознательно, иногда даже с противоположными намерениями – в истории в конечном счёте оценивается лишь результат, а он превзошёл все ожидания: эпоха Михаила Горбачёва стала эпохой глобального краха как идеи тоталитарного господства над людьми, так и имперской идеи.
С Михаилом Горбачёвым в 1991 году ушёл в прошлое «не календарный – настоящий Двадцатый Век». Место в пантеоне выдающихся государственных мужей ушедший президент себе обеспечил.
Но Горбачёв сам выбрал себе судьбу политического деятеля и не должен рассчитывать на то, что к нему будет применено старое правило: aut bene, aut nihil.
Слишком много человеческих судеб, да и самих жизней затрагивает любой ложный шаг политика, будь он сделан по злой воле или же по некомпетентности.
Эта особая мера ответственности сближает политика с врачом или с конструктором ядерного реактора. Поэтому не надо упрекать в неблагодарности тех, кто даже в это тяжёлое для экс-президента время говорит о нём кроме хороших ещё и горькие слова. Чрезмерная лояльность к нему обязательно обернётся забвением памяти тех многих, кто отличается от Горбачёва всего лишь тем, что никогда не был Человеком Года, – например, той же изнасилованной и сожжённой заживо сумгаитской армянки (кто сейчас вспомнит её имя?), страшный конец которой тоже на счету президента.
Ведь говоря о плохом и хорошем в завершившейся эпохе, мы не отметки выставляем, а пытаемся предугадать, каким мы сделаем наступивший не календарный – настоящий Двадцать Первый Век.
Горбачёва и его первоначальных соратников ошибочно называют «архитекторами перестройки». Они ими не были никогда. Прав ныне непопулярный Маркс, говоривший, что самый худший архитектор отличается от самой лучшей пчелы тем, что, приступая к работе, он уже имеет в голове проект строения. То, что Горбачёв и его окружение принимали за проект (он изложен в первой горбачёвской книге «Перестройка»), никакого отношения к реальности не имело.
Было инстинктивное понимание необходимости перемен, тревожное ощущение угрожающих подземных толчков и желание уберечь от них самих себя и страну. Были стыд за демонстрируемый всему миру маразм государства и честолюбивое желание – хорошее, искреннее желание, – чтобы тебя поминали добром, ибо постыдный пример посмертной судьбы Сталина или Брежнева был у всех перед глазами.
Не было одного: знания реальности. Почти через два года после начала перестройки Яковлев признался, что, приступая к реформам, они с Горбачёвым не имели понятия о масштабах стоящих перед ними проблем.
Это поразительно. Весь мир – крупнейшие социологи, философы, политологи, наблюдавшие эволюцию советского монстра всего лишь извне, тем не менее давно уже сумели вынести «социалистическому выбору» свой не подлежащий обжалованию приговор. Инакомыслящие внутри страны, из всех источников информации имевшие лишь свой личный опыт да здравый смысл, пришли к тому же. Руководители же огромной, страны, располагавшие беспрецедентным аппаратом открытых и секретных служб, который контролировал все каналы информации и гордился своим «всеведением», действительно не знали практически ничего.
Новые слова, старые правила
Политические руководители тоталитарного государства сами стали жертвой этой тоталитарности. Лишённые необходимости конкурировать со своими политическими противниками по признаку знаний и компетентности (или умения подобрать компетентную команду), по остроте ума и быстроте реагирования, по умению наладить обратную связь с управляемыми и чувствовать их политическую волю, они уничтожили естественный отбор по этим совершенно необходимым для политика качествам. Лишь в аппаратных интригах они знали действительно всё, и Горбачёв был в этом непревзойдённым мастером.
До тех пор, пока «перестройка» касалась только аппаратных перемен и оттеснения геронтократов от власти, Горбачёв действовал с ювелирной точностью и не сделал ни одной ошибки. Действительно ни одной, включая «дело Ельцина»: Горбачёв только не мог предвидеть, что Ельцин сменит «правила игры» и начнёт действовать не по-аппаратному.
В стране быстро и энергично была проведена «революция вторых секретарей», от которых ожидалось, что они-то и произведут обновление. Готов допустить, что многие из них, подобно генеральному, были искренни в своём желании «накормить народ», избавить его от страха, позволить ему безбоязненно высказываться, разрешить ездить за границу, короче, они искренне желали народу добра.
Они не понимали одного: до тех пор, пока народ нужно «кормить» и «позволять» ему что-либо, никаких перемен в стране не наступит. Попросту – они не знали азов демократии, не имели даже отдалённого представления о том, как функционируют политические структуры демократического общества и рыночные механизмы экономики.
Горбачёв знал не больше, чем его команда, если не меньше. Встав во главе великой страны, он до самого конца сохранил кругозор секретаря обкома. Для секретаря главное качество – не знания, а энергия. Если секретарь к тому же и лично честен, – о лучшем и мечтать нечего. Но от главы государства требовалось нечто большее.
.jpg)
Никак не «отэсэсэсэрится» бедолага. Автор фото: Э. Кудрявицкий
Было странно, например, слышать, как руководитель страны, уже признавший необходимость перехода к рынку, заявлял, что «безработица нам не подходит», а из капитализма нам нужно взять только самое лучшее. Горбачёву просто не приходила в голову мысль, что экономическая система есть понятие целостное, из которой нельзя, как из кулька конфет, выбрать «вкусненькое», ибо её недостатки есть неизбежное продолжение её достоинств.
В сущности, речь Горбачёв вёл всё о том же: о построении идеального общества, в котором «всё будет хорошо». В возможности существования такого общества у него сомнений не было. Разница состояла только в том, что «архитектор перестройки» намеревался строить здание «обновлённого» коммунизма из капиталистических кирпичей и на фундаменте «общечеловеческих», а не классовых ценностей. «Нового» в таком мышлении не было ничего. Новыми были слова, но складывались они по старым правилам.
.jpg)
Что ни крайний, то радикал. Автор рисунка: В. Степанов
История опозданий
Именно некомпетентность, неумение профессионально проанализировать ситуацию или хотя бы выслушать совет профессионала, – вот причина всех знаменитых «опозданий» Горбачёва. История Горбачёва последних лет – это история его яростного сопротивления всем действительно радикальным переменам. Он сопротивлялся введению института частной собственности, и особенно частной собственности на землю; всеми средствами противодействовал любым попыткам радикальной экономической реформы; противился отказу КПСС от монопольного права на власть. Более всего сил положил он на противостояние с республиками, на попытки сохранения пресловутого Центра, день ото дня становившегося символом всего самого ненавистного для народов – многонационального государства.
Каждый раз Горбачёв вынужден был уступать, но только тогда, когда уже было поздно и уступка не имела значения.
Собственно говоря, ярчайшим проявлением некомпетентности была сама идея перестройки – попытки перестроить неперестраиваемое, реформировать нереформируемое. Если на первых порах ещё можно было думать, что «перестройка» – всего лишь эвфемизм, попытка скрыть от консерваторов свои подлинно радикальные взгляды, усыпить их бдительность, то после августа стало окончательно ясно: Михаил Сергеевич был абсолютно искренен. Это была стратегия, а не тактика.
Повторить сразу же после августовской революции слова о верности социалистическому выбору и необходимости дальнейшей реформы КПСС – после фактически уже состоявшегося распада империи продолжать заклинания о Союзе – мог только очень убеждённый человек. Это, конечно, делает честь идейной стойкости Горбачёва, но бывают обстоятельства, когда такая стойкость превращается всего лишь в политическую слепоту.
Под давлением событий – и опять с запозданием – Горбачёв заговорил всё-таки о необходимости решительного отказа от самой системы, оставленной нам в наследство большевизмом. Не совсем ясно, однако, что именно включал Горбачёв в понятие «системы». Одно очевидно – себя самого он частью этой системы не считал.
Между тем он был прямым порождением системы и её последним оплотом. Он искренне хотел народу добра – при условии, что это добро будет исходить от него. Свою перестройку он позднее назвал революцией, а пресса уточнила – революцией сверху. Революция сверху должна была осуществляться по испытанному принципу демократического централизма. Поэтому Центр был Горбачёву необходим. Как атаку лично против себя воспринимал он сначала попытки избавиться от руководящей роли КПСС, «по инициативе которой была начата перестройка», а затем и от империи, от принципа: «сильный Центр – сильные республики». Даже в августовском перевороте он прежде всего увидел нападение лично на него, «на Президента и его семью».
Он так и не смог понять, что слом системы предусматривает необходимость избавиться и от него самого – не от Горбачёва-человека, а от Горбачёва-генсека, пересевшего в президентское кресло. Революционер сверху со страхом относился к возможности революции снизу.
История давала ему возможность по капле выдавливать из себя генсека. Но ни разу он не воспользовался случаем, чтобы заявить о себе как о человеке, решительно порывающем с системой.
Чернобыль, первый Съезд народных депутатов, программа «500 дней» в сочетании с предоставленными президенту чрезвычайными полномочиями, июньский «путч» Павлова – Крючкова, Сумгаит, Тбилиси, Баку, январский Вильнюс... – список упущенных моментов огромен. Действуя, например, после апрельского Тбилиси хотя бы так же энергично, как он действовал после полёта Руста, Горбачёв способствовал бы укреплению дорогого его сердцу Союза больше, чем десятком надрывных телеобращений.
Промолчав, он заставил думать о себе как о соучастнике преступления, независимо от того, справедливы эти подозрения или нет. Что же касается Союза, то мне кажется, что именно в этом чёрном апреле была пройдена та точка, после которой возврат к прежнему существованию уже был невозможен.
Даже ещё четыре месяца назад была возможность продемонстрировать, что президент перестал быть частью системы: явиться прямо с ночного аэродрома в революционный Белый дом, прямо на площадь к собравшимся, заявить о своём выходе из КПСС; президентским указом, опережая Ельцина, запретить деятельность своей бывшей партии как организации, ведущей антиконституционную деятельность; заявить о признании независимости всех «республик Союза»; короче, доказать, что в другую страну явился другой президент. Но президент остался прежним, окончательно решив тем самым свою судьбу.
.jpg)
Групповой портрет СоцЛага (фрагмент). Автор фото: Д. Бальтерманц
Волю получили, свободу взяли сами
Но не только «недостатки – продолжение наших достоинств». Иногда верно и обратное. Постоянно демонстрируемая Горбачёвым нерешительность, колебания, неумение принимать решения в непривычной «внеаппаратной» ситуации предопределили и то главное, за что Горбачёв получит вечную благодарность истории: он вызвал к жизни новые политические силы, которые вскоре начали действовать ему неподконтрольно. А наличие независимых политических сил – это и есть смертный приговор тоталитарной системе.
Эти силы были порождением политики гласности, первоначально вовсе не совпадавшей со свободой слова. Думаю, что, если бы Горбачёв в 1985 году мог предвидеть последствия этой политики, он сто раз подумал бы, прежде чем отпускать тормоза. Печать всё ещё представлялась ему «верной подручной партии», на сей раз в деле перестройки, и именно на её помощь он справедливо рассчитывал, проводя «революцию вторых секретарей» . Эту помощь он получил.
Но получил не только её. Либеральная интеллигенция, национальные движения, новое рабочее движение не захотели присоединяться к сонму подручных и заявили о себе как о самостоятельной силе. Не допустить (или хотя бы отсрочить) появление этих сил Горбачёв ещё мог, но, однажды допустив, по природе своей не был способен загнать выпершее тесто назад в квашню так, как это делают опытные домашние хозяйки – ударами острого ножа. Генсек всё более походил на ученика чародея, не умеющего прекратить действие собственных чар.
Между тем на первых порах появление настоящего чародея могло бы ещё остановить разгул стихий. Мы считали себя свободными, но ещё не были ими. Мы полагали, что «революция сверху» дала нам свободу, а когда мы в том начинали сомневаться, нас обвиняли в неблагодарности, в забвении того, кому мы обязаны нашими откровенными газетами и возможностью ездить за рубеж. Однако дать можно только волю, а не свободу. Волю мы получили и стали вольноотпущенниками. Но тот, кто властен дать, властен и отнять: «Бог дал – Бог взял».
Свободу мы впервые взяли сами только в августе – у стен Белого дома. Нам за неё некого благодарить – ни Горбачёва, ни даже Ельцина, который обязан всем нам стольким же, скольким мы обязаны ему. В этом величайшее значение августовской революции.
Эта революция в одном отношении уникальна – это единственная в истории легитимная революция, революция не против законной власти, но в её защиту.
Парадокс: путч, инициировавший революцию, тоже был легитимным (подчёркиваю, – не законным, а легитимным). Путчисты сами были властью, а отстранение главного руководителя страны «по состоянию здоровья» в рамках коммунистической парадигмы – вещь столь же легитимная, как в демократической стране отстранение премьера путём вынесения ему вотума недоверия. Если советский народ и мировое сообщество не усомнились в легитимности прихода к власти Брежнева, то почему то же самое не должно быть верно и для Янаева? Путч, направленный против Горбачёва-человека, был одновременно направлен в защиту политики, проводимой генсеком.
Двоевластие
Таким образом, в августе столкнулись между собою две равно (но каждая по-своему) легитимные власти. Наружу вышло давно уже сложившееся в стране двоевластие. Это двоевластие, формировавшееся в ходе «войны законов» между Центром и республиками, окончательно сложилось и приобрело законченный вид с избранием российского президента. После этого выход кризиса на поверхность стал лишь делом времени.
Народ, проснувшийся утром 19 августа, был поставлен перед выбором, какую легитимность предпочесть: прежнюю коммунистическую или зарождающуюся демократическую, легитимность Центра или легитимность республик, легитимность генсека или легитимность российского президента. Выбор, который сделал народ, для путчистов оказался неожиданным: они не были к нему готовы, и это определило их быстрое поражение.
Я не уверен, что августовская революция имела бы успех, если бы она происходила не «за», а «против» власти. Ельцин, столь же любимый народный герой, но ещё не президент и даже не глава парламента, провозгласивший те же самые демократические лозунги, едва ли получил бы поддержку, призови он народ на штурм Кремля или ЦК. Для этого общество ещё не созрело (или, пожалуй, наоборот – стало достаточно зрелым, чтобы не извлечь уроков из прошлого опыта).
Августовская революция поставила точку на эре Горбачёва – независимо от того, как сложится его дальнейшая личная судьба.
Революция принесла с собой свободу взамен воли, но ещё не привела к созданию демократического общества и демократической власти. Этой власти, которую революция защитила, власти, имеющей демократическую легитимацию, только ещё предстоит стать подлинно демократической властью. Структуры её многое унаследовали от недавнего прошлого, да и люди, эту власть составляющие, ещё совсем недавно были органической частью прежней системы.
.jpg)
Эка невидаль... Поесть бы чего! Автор рисунка: А. Гартвич
Процессы, происходящие в Грузии и Азербайджане, в Средней Азии и в российской глубинке, в Чечне и Молдове, в Москве и в самом Белом доме, показывают, что уходящая система далеко не потеряла способности регенерировать в иных обличьях. И не надо утешать себя тем, что к прошлому возврата теперь, пожалуй, действительно нет. Всё общество заражено вирусом коммунизма, и, если не принять действенных мер, выздоровление может затянуться надолго (если поражённое вирусом общество выживет вообще). Печальный урок, который преподала нам личная судьба Горбачёва, должен быть усвоен.
Библейские слова на стенах Кремля
Сейчас любой шаг, направленный на преодоление семидесятилетнего наследия коммунизма, вызывает волну предостережений о недопустимости «охоты за ведьмами». Слова эти, сказанные Горбачёвым 23 августа в российском парламенте, сейчас стали языковым штампом, о смысле которого просто не хотят задумываться. Между тем смысл этот весьма далёк от того, который сегодня в него вкладывается.
«Ведьма» – это фантом, существующий лишь в горячечном мозгу преследователя. Охотник за ведьмами в угоду своей фантазии казнит и мучает невинных. «Охотой за ведьмами» были кампании по разоблачению «вредителей» в 30-е годы или «космополитов» в 40-е и 50-е. Но разве можно назвать фантомом коммунистическую идеологию, коммунистическое видение мира, взращивавшееся в каждом из нас долгими десятилетиями? Разве мы, обвиняя друг друга в рецидивах большевизма, не признаём тем самым, что опасность более чем реальна?
Я бы хотел привести более точную историческую аналогию: судьбу другой политической идеи и другой политической партии, объявленной преступной организацией и действительно бывшей таковою: НСДАП, привычнее – нацистской партии. Если кто-либо сочтёт эту параллель неуместной, я попрошу его назвать, какое ещё преступление должна была бы совершить, но ещё не совершила КПСС, чтобы её с полным основанием можно было бы квалифицировать как преступную организацию? Таких преступлений нет.
Если мне возразят, что НСДАП была признана преступной в судебном порядке, а КПСС – нет, я напомню, что точно такую же аргументацию приводил и бывший прокурор Шеховцов, протестовавший против того, чтобы преступником называли Сталина. И над Сталиным, и над КПСС суд свершён самой историей, и на стенах Кремля ясно читается: «мене, текел, фарес».
Плюс «денацификация... всей страны...»
Процесс денацификации, проведённый в послевоенные годы в Западной Германии, не был «охотой за ведьмами» и при всех сопровождавших его сложностях и издержках немало содействовал тому, чтобы эта страна избавилась от скверны нацизма и уверенно стала в ряды современных демократических государств. У нас такой процесс очищения проведён не был, но, видимо, он необходим.
Тем, кто с ужасом воспримет мои слова и начнёт говорить о «18 миллионах честных коммунистов», напомню, что «честные нацисты» тоже исчислялись миллионами. Денацификация вовсе не означала их повального уголовного или административного преследования. Из 3,6 миллиона случаев, рассмотренных в трёх западных зонах Германии, главными преступниками были признаны всего 1167 человек, просто виновными были найдены 23 тысячи, виновными в малой степени ещё 150 тысяч. Остальные квалифицировались как попутчики или невиновные.
Важно было не количество полетевших голов, а сам процесс очищения и его публичность. То же самое будет важно и для нас. А что касается «честных 18 миллионов», то пусть каждый из них осудит себя сам – хотя бы за то, что позволил политическим спекулянтам ссылаться в своих нечистых целях и на его малую единичку.
.jpg)
Отлетательный аппарат. Автор рисунка: И. Слюсарев
Я отдаю себе отчёт в тех невероятных сложностях, с которыми будет связана «денацификация» нашей страны, и понимаю, что вопрос этот требует профессионального разговора. Я надеюсь вернуться к этой теме отдельно, а пока мне хотелось бы только привести слова выдающегося немецкого философа Карла Ясперса, сказанные им в 1965 году: «Самое важное заключается в том, будет ли признано нацистское государство преступным или нет.
Преступным государством является такое, которое в принципе не создаёт и не признаёт правопорядок. То, что называется правом и что это государство рождает в потоке законов, представляет для него средство для усмирения и покорения народа, а не нечто такое, что оно само уважает и соблюдает. Оно хочет с помощью силы изменить людей и подчинить себе всё человечество...
Следует ещё раз повторить политический принцип: сознание необходимости нравственно-политической революции после 1945 года, безграничная воля к прекращению преемственности от преступного государства, понимание необходимости и желание создать что-то новое – всё это предпосылка для нас, если у нас есть будущее».
Я думаю, что сегодня мы вправе повторить это применительно к нашей стране.
Из журнала «Новое время»
Ещё в главе «Жизнь - слово - дело»:
Виноват ли Ленин в нашей глупости?
Воля – это ещё не свобода
