Раскрытие тайны (отрывок из главы)
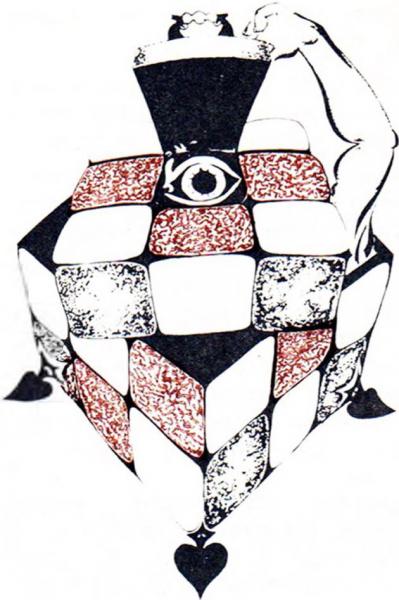
Дорогой читатель! В нашей «Шкатулке с секретом» сегодня, как водится, сюрприз! Или, как писали в старых романах, «презанимательнейшая история о том, как с помощью волшебнаго фонаря и искуснаго в художествах зломудрых фрязина адашевския реформы прекращение получили!»
А хотели протопоп Сильвестр и воевода Алексей Адашев ни много ни мало – ограничить законом самодержавную власть и произвол бояр...
О давнем прошлом нашей земли рассказывает забытая ныне историческая повесть Льва Жданова «Царь и опричники». Отрывок, который мы выбрали для Вас, невелик, но чрезвычайно насыщен: тут и детали старинного быта, и немного мистики (с последующим её разоблачением!), и затейливые хитросплетения дворцовых интриг...
Кстати, обратите внимание, что и 400 лет назад, совсем как сегодня, они имели целью не владеть властью, а вертеть ею!..
Данило Захарьин (брат царицы Анастасии. – Ред.), потолковав с царицей, которой привёл нового потешника для развлечения в долгие скучные часы безделья, явился и к Ивану.
– А что, государь! – спросил он. – Не пожалуешь ли? Новых затей у царицы-матушки не поглядишь ли?.. Фрязин тута один... Раньше в толмачах служил. Потом – его с чего-то далече услали советники твои первые: поп и Олешка... Чуть что не на Рифей, руду искать... А он – и знать того дела не знает! Его дело на языки на разные ведать да шутки скоморошьи играть. Больно ловок. Пытал я фрязина: с чего-де так заслан был? Молчит... Один ответ: «Их была боярская воля. Платили знатно. Я и творил волю господскую: ехал куда сказано, делал что приказано...»
– С чего же тебе-то на ум запало: вернуть его на Москву, потешника-фрязина? – пытливо вглядываясь в хитрое, довольное чем-то лицо шурина, спросил Иван.
– Так... Государыня-сестрица заскучала. А я про штукаря ненароком проведал. Выписал, потихоньку и от попа, и от Адашева... Чтоб не осерчали, храни Господи... Ещё не прибили бы нас...
– Нас?! Прибили?! С ума ты спятил, Данилко!
– Храни Боже, государь. Я – про себя с Никиткой говорю. Людишки мы малые. Где нам перед первыми советниками царскими... Не про тебя молвилось... Помилуй!.. Это они только, покуль хворал ты, и могли...
– Ну, буде... Сам помню, что было. Не чай меня подзуживать... Добро уж... Приду твово диковинного штукаря повидать. Сам и повыспрошу его. Что-то мне не то здесь чуется...
– Помилуй, государь. Только сестру государыню потешить – вся и забота была моя...
– Ладно, добро. Поглядим тамо...
И, несомненно заинтересованный речью Захарьина, Иван отпустил шурина, ясно видевшего, что заряд его попал в цель...
Тишина после обеда, после полудня, во всём дворце и в теремах царицыных, – мёртвая тишина. Поели – и спать полегли все. И только перед вечернями снова оживают покои и горницы, светёлки и переходы. А затем, с курами, при наступлении сумерек – опять спать ложатся, помолившись, чтобы с первой зарёю, с первым криком петуха проснуться и новый день так же прожить, как вчерашний прожит.
Среди теремных покоев, в стороне, помещается обширная горница, полутёмная, потому что два её небольших оконца выходят в другую, смежную комнату и только оттуда получают солнечный свет. Обыкновенно и эти два просвета закрыты изнутри ставнями, потому что горница отведена под склад вещей, которые не сдаются во дворцовую казну, но и не находятся в повседневном употреблении, при обиходе царицыном.
Тут наряды её праздничные, не самые дорогие, в сундуках, в ларцах, в укладах дубовых: и перины запасные, и холсты тонкие, и серпянка домотканая деревенская, оброчная дань баб деревенских из царских сёл и угодий... Много тут всякой всячины в коробах и так, по углам лежит, по стенам развешано, в узелках и свёрточках припрятано... И шелка цветные для вышивки пелен и воздухов, над которыми царица часто трудится, и бисера разноцветные... И много ещё разного...
Нынче – кладовая эта прибрана ладненько. Окна так же, как всегда, ставнями прикрыты изнутри. Освещена горница свечами восковыми и лампадами, которые зажжены перед неизбежным киотом в углу. Стены, раскрашенные масляными красками, – совсем пусты. Одна, самая широкая, завешена простынями, сшитыми так, что всё цветное, тёмное пространство раскрашенной масляными красками стены прикрыто белым покровом.
Перед небольшим столиком, какой обычно устраивают себе фокусники всех времён и всех стран, суетится небольшой черномазый итальянец, каких тогда много можно было встретить на улицах и площадях западных больших городов под кличкой шарлатанов и кудесников.
На соседнем столе стоит простой, грубой работы, квадратный ящик с одной стеклянной стеной – первобытный волшебный фонарь. Чечевицеобразное стекло укреплено неподвижно на краю короткой трубы и может давать только известного размера смутное отражение на стене или на занавес. Но и того достаточно было для уловления неопытной ещё публики, принимавшей фокус – за деяния нездешних сил.
Маг-итальянец одет в обычный наряд астролога: в мантии, с высоким колпаком на голове. Чёрный плащ, усеянный золотыми звёздами, серебряными полумесяцами и красными фигурами чертей, довершает впечатление таинственности и страха, разлитое сейчас в дворцовой кладовой, ставшей чем-то вроде «комедийной храмины» или сцены.
Не в первый раз творится подобное во дворце. При старухе – бабке Ивана, при княгине Анне Глинской – состоял даже свой присяжный фокусник, часто потешавший и детей, и взрослых во дворце... Но с появлением Сильвестра все подобные «нечестивые забавы, игры и позорища диявольские» были исключены из обихода царского. И вот, после долгого перерыва, да и то потихоньку от обоих блюстителей царского благочестия, по старине, устроился настоящий вечер.
Волнуется, ходит итальянец у стола, фонарь свой осматривает... Он глубоко озабочен исходом сеанса. Ведь в случае удачи обещано бедняку, что дадут ему возможность, с богатым награждением, вернуться на родину... Избавят его из кабалы, в какую он попал добровольно, связавшись шесть лет тому назад с первым советником царским, Адашевым... И, весь в лихорадке, ждёт фрязин урочного часа...
Вот собралась и публика. Немного её. Человек десять, и все женщины: царица с четырьмя-пятью своими боярынями и девушками ближними, из родственных ей семей. Наконец явился царь с двумя Захарьиными. И Висковатов, дьяк, с ними. Никого больше.
Заняли места. Царь впереди. Бояре стоят. Царица подальше села, а вкруг неё, за спиной, прямо на ковре уселись девушки. Две старые боярыни на сундуках приткнулись: боязливо озираются и крестятся незаметно, в душе осуждая затею царицы молодой.
Начались и идут чередом чудеса разные и фокусы, основанные на проворстве рук, на отводе глаз. Вещи появляются и исчезают, растут и уменьшаются. Целые волшебные игрища устраивает маг. Вот из пустого кулака вынул он куклу: совсем татарин. Миг – и литвина кукла в другой руке качается.
Ставит фокусник своих актёров на столик, и, покоряясь незаметным проводам и нитям, драться начинают мёртвые куклы. Вот на помощь татарину турок ползёт, неизвестно откуда явившийся на столе. А за литвином вырос рыцарь ливонский и другой – германский, оба в сталь и железо закованные. С трудом ступают...
И накидываются все трое на двоих агарян, пищат, разговаривают на разные голоса... И вдруг начинают поглощать, словно удавы, своих противников, вступая в драку из-за дележа добычи, так как трудно двоих мусульман на три рыцарских глотки поделить. Вот уж только двое из пяти осталось...
Татарин, турок и литвин проглочены. Вот и один из последних упал... Тогда оставшийся, германец, на глазах у всех хватает руками павшего врага ливонца и начинает его глотать. Брюхо у рыцаря растёт, растёт... Лопается... Оттуда сыплется казна золотая и разные драгоценности. А сам рыцарь, наказанный за жадность, падает мёртвым.
Вдруг, неизвестно откуда, является витязь в оружии: русский богатырь. Он подбирает всё, принадлежащее мёртвым недругам, кланяется царю, царице, по-русски, сносным языком приветствуя их, и внезапно исчезает, словно в воздухе растаял...
– Ай, да молодец, фрязин! – произнёс Иван, всё время с интересом следивший за проделками кукол и порой неудержимо хохотавший в самые забавные минуты. – Добро! И на голоса ловко говоришь... И повадку нашу русскую знаешь: двоих стравить, третьему быть, всё забрать, во славу христианства православного... Видать, Настя, и тебя братец твой потешить сумел, забавника такого подыскавши.
– Как же, государь... Я бы не звала тебя, кабы не видела, что стоит того... – отвечала царица, сохранявшая почему-то всё время серьёзное выражение лица. И только лёгкая улыбка озаряла его в самые интересные минуты представления.
– Что ж, разве не всё ещё? – спросил Иван, видя, что маг, при помощи одного из братьев царицы, тушит все свечи, кроме лампад у киота. Но и здесь поставлен был высокий лёгкий экран, вроде ширмы, так что в покое стало темно.
Иван невольно вздрогнул.
– К чему это: темь такая? – нервно спросил он. – Не люблю я...
– Не тревожься, государь! – отвечала Анастасья, словно угадавшая тревогу мужа.
Она теперь встала, подошла к мужу и совсем прижалась к плечу его, словно готовая оберечь Ивана ото всякой случайности.
Иван успокоился и стал с любопытством глядеть.
Фрязин такой же ширмой начал отгораживать столы свои со стороны публики. И скоро свет одинокой свечи, горящей на одном из столов, скрылся от глаз присутствующих. А Захарьин, подойдя к Ивану, объяснил:
– В сей час, государь, чудо покажет фрязин: явление Самуила царю Саулу, как волшбу свою творила ведунья Эндорская... Больно забавно. И тоже на голосах представит: как все толковали они тамо...
.jpg)
Автор рисунка: А. Лебедев
Иван хотя и волновался, чувствуя, что вот теперь именно предстоит нечто важное, но овладел собой.
– Ну что ж, пущай колдует фрязин... С нами Бог и расточатся врази Его...
– Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его! – многозначительно повторил Захарьин. – Начинай, што ли, фрязин! – приказал он магу.
И сразу из-за высокой чёрной ширмы, отгораживающей фокусника и все столы его, внезапно полились оттуда, засияли лучи дрожащего света, прорезали темноту покоя и круглым, широким пятном упали на противоположную от Ивана стенку, завешенную белыми простынями.
В круглом световом пятне постепенно стали обрисовываться какие-то две фигуры... Царь Саул, в византийском, современном Ивану, наряде царском, с короной на голове, с жезлом в руке. А перед ним – страшилище-старуха, сгорбленная, скрюченная, кидает волшебные зелья в пламя костра, краснеющего у костлявых ног колдуньи.
И говорит она скрипучим, старческим голосом Саулу:
– Трепещи! Сейчас уведаешь судьбу свою!
– Не трепещу! Я царь Саул... Являй мне судьбу мою! – властно, мужским голосом отвечает чревовещатель-фрязин себе же самому от имени вызванных им теней.
И вот над прежними двумя фигурами, паря на воздухе, появляется мертвец в пеленах, но с открытым лицом, сам пророк Самуил, и спрашивает:
– Кто звал меня?..
Глухо звучит замогильный голос, необыкновенно знакомый Ивану. Затем, услышав вопрос Саула: «Чего ему ждать?» – тень Самуила грозно изрекла:
– Горе тебе! Гибель!.. Кайся в грехах... Пробил час!..
Иван весь задрожал. Сомненья нет! Этот же самый голос слышал он шесть лет тому назад, в роковую ночь после великого пожара Московского, когда поп Сильвестр сумел всецело овладеть душой и волей его... Вспомнил Иван роковую ночь 27 июня 7055 (1547) года, проведённую в летнем дворце на Воробьёвых горах.
Один, напуганный разгулом огня и бунтом московской черни, – сидел юноша в своей опочивальне, твердя покаянные молитвы, холодея от ужаса! Вдруг около полуночи раскрылась дверь и появился в покое Сильвестр, протопоп, духовник царицы...
Обрадовался даже царь.
– Вот, Бог душу живую послал, да ещё такую хорошую!..
– Входи, входи, отче! Милости прошу! Рад я тебе. Только што так поздно? Не приключилось ли сызнова чего на Москве? Или ты от отца моего, от митрополита святителя нашего? – ласково заговорил Иван.
– От себя я, государь. А поздно – потому дело такое, великое! Не всем очам видеть достойно.
Снова мороз пробежал по спине у Ивана.
Странный вид был у Сильвестра. Сурово и скорбно лицо его. Тяжело налегает рука на пастырский посох. Одежда вся мокрая. Правда, видно: дело великое, если в такую ночь из Москвы сюда прибыл...
– Рад тебе, всё едино. Зачем пожаловал? Сказывай, отче! Всё сделать готов, – робко отозвался царь.
– Бог меня посылает к тебе, сыне! Чадо моё духовное! – значительно, смело заговорил поп.
Никогда он с ним так не говорил, хоть и много раз приходилось им сталкиваться и в храмах Божиих, и у царицы. Совсем пророком выглядел библейским этот величавый, седовласый, могучий старик.
– Говори, отче!.. – смиренно повторил Иван.
– Не я – Господь Бог глаголать устами моими возжелал и даст тебе в том дивные знаменья.
– Знаменья? – пролепетал подавленный отрок.
– Да, сыне, знаменья!.. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения!» – сказано бо есть. – И тебе, лукавец и прелюбодей, дастся знамение по воле Господней.
Иван онемел.
Впервые до слуха его коснулось такое слово. Но сейчас же он смиренно поник головой и повторил только:
– Лукавец и прелюбодей! И горше того, отче! Каюсь со смирением, по чистой совести и пусть по той правде простит меня Господь!..
– Погоди! Слушай сперва! Потом и твоя речь придёт. Слушай, что было со мною... Не нынче... Ещё шесть дён назад.
– Говори... говори, отче... – весь трепеща, прижимаясь, как ребёнок, к рясе священника, произнёс Иван, предчувствуя, что услышит нечто необычайное.
– Спал я в покое своём. Вдруг голос воззвал меня. Прокинулся. Гляжу – нет никого... Лампада сияет... И лик Спаса. Кроткий и Благостный – один глядит на меня. И вижу: словно слёзы блестят на очах у Кроткого. Глянул ещё раз – нет ничего. Ну, думаю, почудилось! Да на окно перевёл глаза. Чуть не крикнул! Весь Кремль, вижу, в огне пылает! И собор мой тоже...
– Господи, Господи!.. – зашептали бледные губы Ивана, а рука невольно сотворила крестное знамение.
– Дальше слушай... Кликнуть кого хочу... Протопопицу мать разбудить – голосу нет. Подбегаю к окну – всё исчезло разом. Тихо. Светает на воле. Спокоен Кремль, цел собор стоит. Думаю: попритчилось. Молился мало перед сном. Сотворил молитву, лёг. Снова глас зовёт. Снова в огне всё вижу кругом. До трёх раз так было...
– Што ж не пришёл, не сказал тогда мне, отче? – зашептал Иван.
– Гордыня! Неверие обуяло... Думаю: что я за святой, чтобы знаменья мне Бог подавал... Забыл, что и в безднах адовых светит величие Божие! Дальше слушай... Спохватился я, вспомнил виденье моё вещее, когда беда огненная над Москвой стряслась.
Да поздно – так себе думаю... И снова нынче в ночи посетил меня... к тебе послал Господь... Слушай! – вдруг загремел Сильвестр. – Слушай и трепещи, грешник юный! Овца заблудшая... Вот уж секира при корне древа сухого... Усечено оно будет и ввергнуто в огонь вечный! Покайся, нечестивец! Покинь утехи агарянские, игры содомские, оставь крови пролитие! Воззрись на землю! На весь люд христианский, богом вручённый тебе!
Мало ли посещал гебя Господь? И глад, и потоп, и мор на землю приходил... Ты всё не одумался! Покайся, чадо! Не дерзай паки насилием всяким народ угнетать. Не давай православных боярам своим в обиду! Не на то вручён тебе венец прародительский! Очисти душу свою от всякия скверны!..
К земским людям стань милостив... К церкви – прилежен... Не то горе тебе! Взвешены грехи все твои на весах гнева Господня! Спеши одуматься, чадо!.. Гляди: вон пажити, тобой и приспешниками твоими опустошённые... Сёла, казаками размётанные... Град престольный, Москва, грехов твоих ради спалённый, аки в последний час светопреставления... Гляди: вон жёны, дети, старцы, в огне обгорелые... Мученики безвинные, агнцы Божии...
– Вижу, вижу!.. – стенал Иван, в уме которого ярко возникала каждая картина, поминаемая старцем, словно бы наяву он видел всё... – Каюсь! Грешен! Прости, Господи!.. Отпусти мне грехи мои, вольные и невольные...
– Стой, молчи! Гляди... Ето не всё!.. – властно продолжал старик. Гляди.. – и он посохом указал на стену опочивальни.
В это самое мгновение – ясно помнит Иван – откуда-то пронёсся по комнате сильный порыв холодного сквозного ветра и погасил почти все лампады, сиявшие в углу у образов. В то же время сверху откуда-то мелькнул луч света слабого, скользнул по Сильвестру и озарил часть едены, покрытой дубовой панелью, гладкой, полированной.
Иван глянул по направлению руки Сильвестра – и волосы поднялись дыбом, зашевелились у него на голове. Он застыл от ужаса...
Там, явственно, в светлом большом кругу – стали скользить знакомые тени. Не раз совесть вызывала их перед умственным взором отрока. Но никогда с такой яркостью не видал он всех убитых, замученных, казнённых и задушенных по его повелению, по прихоти его... Вот Шуйский Андрей, залитый кровью, с поникшей головой. Лицо плохо видно. Но наряд, волосы, посадка – все его... Это он, самый!..
Вот юные сверстники Иоанна: Доробужский, Кубенский, Воронцовы братья... Овчина Федя... Закрыл глаза Иван, а они всё шли, шли без конца. И видел он, как с укором кивали они головами... Он слышал, как шептали их мёртвые уста:
– Душегуб! Убийца...
А голос Сильвестра снова загремел:
– Не закрывай очей на духовную скверну свою... Гляди!..
Раскрыл невольно опять глаза Иван, глядеть стал и увидел самого себя, объятого адским пламенем... Окружённого духами тьмы, которые ликуют добыче!.. И мучат, вонзают в него трезубцы свои...
Рыдание вырвалось из груди у отрока!
Вопль огласил весь покой, вырвался в раскрытое окно и замер в ветвях тёмных деревьев вековых...
– Помилуй! Прости! Защити, Господи!.. Каюсь во гресех моих тяжких... Ты, что разбойника простил и спас на кресте, Спасе, многомилостивый, помилуй мя, окаянного... Помилуй мя! – закричал юноша.
И, бия себя в грудь, распростёрся в молитве Иван.
– Гляди! – снова раздался голос...
Поднялся и увидел Иван отца своего. Хотя не помнил он лица его, но таким вот отчеканен, лик покойного Василия висел у него на шее, на гривне золотой. И грозил ему отец... А из-под земли – словно лязг цепей раздавался, тяжёлых железных цепей... Или врата адовы до срока разверзлися. И вдруг – из-под земли же глухой замогильный голос разнёсся в ночной тишине.
– Покайся, сыне! Близок час!.. – провещал замогильный голос те же самые слова, что и фрязин сейчас говорил...
Отец грозил и глядел сурово. И немедленно же сверху, словно с неба, отклик послышался резко, повелительно:
– Покайся, чадо! Близок час!..
Вскрикнул тогда дико Иван и повалился без чувств...
Только под утро в себя пришёл. И с той поры попал под опеку Сильвестра с Адашевым...
А, выходит, обман это был, отвод глаз один и только!
Значит, и тогда комедию играли... Смеялись над ним, над верой, над душой его... Какая низость! Стыд какой, что он дался неучу-попу в обман! Стал припоминать всё самолюбивый, гордый юноша...
И неожиданно горький, истерический смех вырвался из груди у Ивана. Всё громче, всё злее звучит... Удержаться сам не может царь.
Вон уж и свет раскрыли, игру прекратили, свечей зажгли много, хлопочут вокруг царя, воду дают, ворот расстегнули... А он всё не остановится, в себя прийти не может, хоть и хотел бы...
Кое-как прекратился припадок. Сумрачен сидит Иван. Все в тревоге кругом стоят. Один Захарьин ликует, как ни старается скрыть своё настроение. Теперь несомненно: погибли оба первосоветника, обманом завладевшие душой царя.
– Выдьте все... И ты, Настя!.. – приказывает Иван, успокоившись понемногу.
– А фрязин где? Сюды его...
Мага уже нет в покоях. Убрали его. Но он дожидается рядом.
Все вышли. Вошёл итальянец, в землю кинулся перед царём:
– Прости, государь! В уме не было так потревожить тебя... Потешить мнил! – странным, непривычным говором, но понятно, по-русски молит бедняк.
– Встань. Не сержусь я... И не ты меня смутил. Болен я недавно был очень. Ещё не совсем оздоровел, оттого всё... А ты мне по совести поведай сейчас, што спрошу тебя...
– Видит Мария Дева, всё скажу!.. Что у нас, что у вас – один закон: нельзя солгать помазаннику Божию, как нельзя Богу лгать...
– Вот и хорошо... И ещё мне присягу дай... Вот крест мой: Распятие с мощами Николая Барийского... Ваш он святой, как и наш... Вот – Евангелие... Клянись: никому про нашу беседу слова не проронишь...
– Клянусь, государь!..
– Ну и ладно! – хриплым, усталым голосом проговорил Иван. – Скажи, не довелось ли когда тебе так же вот, как и сейчас, только ночью, из места из потаённого, голосить, словно из могилы: «Покайся!.. Гибель твоя настала...» Не довелось ли?
– Довелось единова, государь! – бледнея, отозвался фрязин. – Только откуда ты знаешь? Я и тогда клятву давал, чтоб молчать... Как уж и быть мне? Не ведаю... Гибель пришла для души моей! Да и сказано мне было: слово кому пророню – не жилец я на свете! Убьют, запытают...
И набожный итальянец стал бить себя в грудь, шепча слова молитвы.
– Не бойсь, не стану искушать тебя. Сам всё тебе скажу. И коли так выйдет, ты не говори, а кивни головой. Тем присяга твоя не нарушится. Ты молчать присягался, а про утверждение молчаливое никто не приказывал тебе?
– Правда твоя, государь. Про то речей не было.
– Ну вот... Так слушай: поп один, Сильвестр, с тобою дело вёл... И Адашев, один из вельмож моих нынешних? Так, так! – видя, что итальянец утвердительно кивает головой, прошипел злобно Иван.
Передохнув и справясь с порывом ярости, царь продолжал:
– Ночью дело было... Вели тебя или везли – сам не знаешь куда?.. Так, так. И в покой ввели, тамо сокрыли?..
– Да что, государь, вижу: ты знаешь сам тайну мою... А только в покой меня не вводили... В проходе я стоял потаённом с боярином. И дверь боярин распахнул и приказал: «Говори те словеса, какие учил со мной!» Я и голосил, как приказано. А для чего оно было? – по сию пору не знаю, уразуметь даже не могу...
Иван так и впился глазами в глаза хитрого итальянца. Но лукавые, чёрные, бегающие обыкновенно глаза проходимца – теперь так открыто и прямо выдерживали испытующий взор царя, что тот, успокоенный, откинулся к спинке своего кресла.
– Добро... А вещь-то была не мудрёная... Надобно мне было единого старого надоедного пестуна попугать, вот, понимаешь, я сам всю затею и завёл... Не знал я только, кто помогал моим советникам: попу да Адашеву. Награду я большую тогда отпустил. До тебя дошла ли награда та?..
Как сказать, государь, дадено мне... А столько много ли, как ты приказывал, не ведаю...
И жадный итальянец, в свою очередь, засверкал глазами.
– Сколько ж? Сколько дали? – с живым любопытством спросил Иван.
– Да сто рублёв... И служба потом поручена. Хоть и не по мне, а хлебная... Только далеко от Москвы, от града престольного...
– Конечно, с глаз моих подальше. Чтобы не вспомнил я о тебе, не доведался правды... Тысячу дукатов выдать я тебе приказывал.
– Corpo di bacco! Porco dc la Madonna! – взвыл поражённый фрязин. – Тысячу... А они?..
– Ну, не горюй! – остановил его Иван. – Делать нечего. Сызнова придётся теперь уплатить тебе твоё.
Только... Клялся ты, фрязин, и ещё поклянись: что здеся было – никому не открыть! Мне из-за тебя с боярами моими жадными не ссориться. Так лучше пусть оно будет, словно бы я и не ведаю ничего. И оставаться тебе здесь не след, в царстве моём... На родину поезжай... Поскорее...
Провожатого я тебе дам. Он и дукаты с собой повезёт, на рубеже тебе их выдаст – и ступай с Богом на все четыре стороны. Здесь, того и гляди, и не выживешь ты долго, фрязин... А мне жаль тебя! Подале уходи!..
– Спаси тебя Бог, государь. Всё исполню, как велишь. Детей и внуков научу: молиться за здравие твоё царское. А уж что молчать буду... И на духу не скажу попу нашему!.. Клянусь Марией Девой! Пусть на душе моей грех лучше остаётся, чем не по-твоему сделаю...
И так искренно звучали слова признательного, осчастливленного бедняка, что нельзя было сомневаться в готовности итальянца твёрдо сдержать данное слово. К руке царской допустил Иван мага – и они расстались, чтобы снова свидеться только на суде нездешнем, где и узнал итальянец, как его провёл Иван и какую услугу он оказал царю, раскрыв ему глаза на прошлое, на происки двух людей, которых повелитель до этих пор считал безупречными.
Взбешённый царь, оставшись один, не знал, что ему начать, как поступить?
– Россомахи жадные... Аспиды подлые, клятвопреступники дияволовы... Что мне делать? Куда кинуться?..
И мстить-то сейчас не могу... мстить не могу! – с воплем вырвалось у Ивана.
Долго оставался он тут: словно зверь, долго метался по пустынной, полуосвещённой кладовой, прежде чем овладел собой и мог с надменной, холодной улыбкой выйти к ожидающим его за дверью Захарьиным и жене.
Видя, что царь не зовёт их и сам не показывается, все близкие стояли в тревоге и слушали, что творится за дверью...
Но там раздавались только тяжёлые шаги Ивана и глухое бормотанье его, выкрики злобные, грозные...
Никто, даже царица не решилась войти туда без зова. Громкий вздох облегчения вырвался из груди у ожидающих, когда Иван с презрительным, злобным выражением лица появился на пороге и сказал:
– Благодарствую на потехе, жена... И вам, шуревья дорогие. А теперь за трапезу пора...
И все направились в столовую палату, тихие, сумрачные, словно чуя близкую грозу и задыхаясь в атмосфере, полной электричества.
– Ну, крышка теперя и попу, и Олешке! – успел по пути шепнуть Захарьин – Захарьину, незаметно самодовольно потирая свои потные, жирные руки...
