Г-н А ± Г-н В = популярная конфликтология
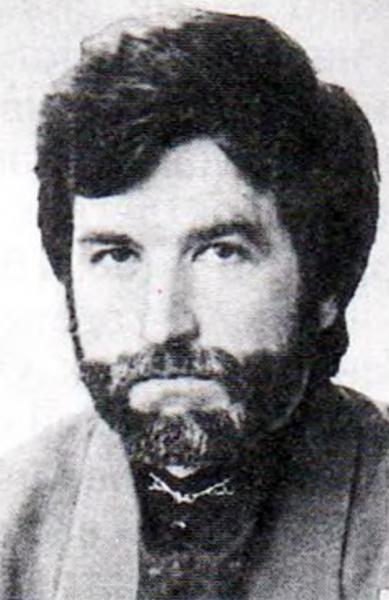
Межи и вехи здорового конфликта? – Да!
Если мы хотим оказать позитивное воздействие на конфликт, то должны знать, что достижение этой цели, при всём многообразии конкретных ситуаций, связано с последовательным выполнением некоторого обязательного набора требований.
Первое среди них – институализация конфликта, под которой понимается установление чёткой процедуры урегулирования последнего. При институализированном конфликте несовместимость сторон выражается в пределах установленных в обществе норм и правил – поведение его участников становится предсказуемым.
Неинституализированный же конфликт, напротив, характеризуется отсутствием регулирующих принципов и чаще всего представляет собой стихийный и не поддающийся контролю взрыв недовольства. Предпочтителен, разумеется, первый вариант, но для него необходимо создать условия.
.jpg)
Автор рисунка: Л. Тишков
В нормативном плане такими условиями становятся различного рода юридические акты, определяющие процедуру взаимоотношений участников конфликта. Назовём некоторые из них, принятые у нас в стране в конце 80-х – начале 90-х годов: Закон СССР «О порядке разрешения трудовых споров (конфликтов)». Закон СССР, а затем Закон РФ «Об общественных объединениях». Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и другие. Не давая оценки содержанию этих законов, отметим лишь, что без их принятия разрешение многих конфликтов на уровне институциональной процедуры вообще не было возможным.
Уже сам факт появления механизма разрешения конфликта переводит задачу управления им на принципиально другой уровень. Причём это касается не только общегосударственной сферы. Например, любой территориальный орган власти самостоятельно определяет места и порядок проведения митингов, демонстраций. Когда такого порядка нет, имеется постоянная основа для неинституализированного конфликта.
Следует понимать, что к конфликту ведёт и нарушение институциональной процедуры любой из сторон. Например, крайне негативную реакцию у общественности в 1992–1993 годах вызывали «волевые» решения московского правительства о закрытии для проведения митингов мест, на которых совсем недавно митинги проводились. В частности, 1 мая 1993 года такой запрет привёл к столкновениям между демонстрантами и правоохранительными органами, сопровождавшимся кровопролитием.
Но, обсуждая проблему институализации, мы всё же не сумеем совсем уклониться от вопроса, насколько хороши или плохи законы и решения. Тем более, что формула «Чем больше законов, тем меньше конфликтов» абсолютно неприемлема. Скажем, Верховный Совет РФ за три года своего существования принял около 700 законодательных актов. Повлияло ли это каким-то образом на стабилизацию общей ситуации? Очевидно, что нет.
К тому же под институциональным механизмом подразумеваются не только юридические акты; диапазон здесь достаточно широк: протокол, меморандум и даже обычная устная договорённость. Проблема с точки зрения конфликтологии сводится отнюдь не к форме. А к чему?
Закон в законе: притча о красном, жёлтом, зелёном и многом др.
Она сводится к наличию добровольного согласия, готовности людей соблюдать установленный порядок. То есть параллельно с задачей институализации социально-политического конфликта должна решаться задача легитимизации последнего. И если, например, какой-то закон устарел, а другой, отвечающий новым условиям, не принят, то роль легитимной институциональной процедуры может выполнять и незаконный с точки зрения юриспруденции акт.
Орган власти или иной социальный субъект в том случае может построить общественную гармонию, когда его действия поддерживаются большинством потенциальных участников конфликта. Если бы люди отказались останавливаться при красном сигнале светофора, нормальное движение транспорта стало бы невозможным, даже если численность милиции увеличили бы в два или три раза.
Законы, карающие за кражу или убийство, потому эффективны, что большинство людей даже в самое тяжёлое время не совершает убийств и не взламывает квартиры. Привычка добровольно выполнять требуемые в этих сферах нормы так крепка, что на их практическое осуществление хватает сил и средств практически у любого государства.
И наборот: например, принятый в 1990 году Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», практически не выполнялся и ни в какой мере не смог предотвратить развал Союза, поскольку не отвечал сложившимся на тот период реалиям.
Другими словами, если большинство потенциальных участников конфликта не склонно исполнять тот или иной нормативный акт, последний становится бессильным. Чем сильнее поддержка, тем эффективнее сможет действовать социальный субъект и тем выше его способность в случае необходимости принять принудительные меры для выполнения принятого решения.
Но если необходимая мера легитимности не достигнута и добровольное желание выполнять это решение у большинства субъектов отсутствует, то, соответственно, не признаётся и право управленческих органов применить силу с целью обеспечения послушания.
В качестве минимально допустимого предела согласия исследователи называют цифру 50 процентов. Вместе с тем, как утверждают специалисты в области теории управления, уже при 30 процентах недовольных или критически настроенных начинается дезорганизация системы, а при 50 процентах – кризис, развал. Следовательно, планку минимально допустимого уровня добровольного согласия при принятии решения желательно поднять до 60-70 процентов.
Очень важно, who is who
У проблемы существует и ещё одна грань. Очень важно, от кого исходит предложенная институциональная процедура. Если процедура хороша, а человек или орган, её предлагающий, непопулярен, то она не будет достаточно легитимной и может не сработать. С другой стороны, популярный субъект может запустить собственный механизм реализации решений и добиться легитимности, даже игнорируя имеющиеся законы и им подобные акты.
Стоит вспомнить, например, как мэр Москвы Ю. Лужков не согласился с «приватизацией по Чубайсу» и запустил свой собственный приватизационный механизм, который был поддержан экономически активной частью горожан и оказался эффективным.
.jpg)
Коронное место. Автор рисунка: В. Хаханов
Чтобы понять, как бороться, тоже нужно знать, who is who
Продолжая разговор о системе правления конфликтом, коснёмся такого важного момента, как структурирование конфликтующих групп. Ведь если управление конфликтом предполагает деятельность, направленную на примирение несовместимых интересов в социальном контексте, то естественно ставить вопрос о носителях этих интересов. Когда наличие некоторого интереса фиксируется объективно, но его субъект неясен или распылён, в перспективе скорее всего следует ожидать не решения, а обострения конфликта.
Получается, что нужно не только препятствовать, но и «помогать» оформлению новых партий, движений и им подобных организаций. Конечно, они станут конфликтной силой по отношению к существующим группам, представляющим другие интересы, но в то же время сыграют роль посреднических структур, которые инициируют объединение носителей сходных интересов в сообщество.
Неорганизованные индивиды потенциально более опасны как питательная почва для экстремистских сил любых цветов политического спектра, чем те, кто принадлежит к организованным для конфликта группам. Исследователи справедливо отмечают, что, например, использование физического насилия в конфликтных ситуациях характерно в основном для неструктурированных групп, в которых отсутствуют организация и управление.
Заслуживает внимания и ещё один аспект этого вопроса. Когда группы структурированы, в ходе конкуренции появляется возможность измерения силового потенциала сторон. Конфликт между ними способствует установлению неформальной иерархии влияния в обществе, которая объективно сдерживает более серьёзные конфликты.
.jpg)
«Через совместные действия – к успеху начинания!» Автор рисунка: И. Смирнов
Перевести конфликт на другой уровень
После, во-первых, определения субъектов борьбы и, во-вторых, формирования легитимных механизмов его урегулирования, можно ставить задачу редукции, то есть последовательного ослабления конфликта за счёт перевода на другой уровень. Здесь целесообразно использовать некоторую шкалу, которая в основном охватывает возможные уровни напряжённости в противостоянии сторон. Вот как выглядит её простейший вариант: «друг – союзник – партнёр – сотрудник – соперник – противник» и т. д.
Необходимо понять, что реалистически поставленная задача редукции конфликта первоначально предполагает его перевод лишь на следующую по отношению к точке отсчёта «ступеньку», и «перескочить» через несколько этапов, как правило, не удаётся.
Разместив политический, экономический либо иной спектр общества на этой шкале, один субъект будет способен определить, учитывая отношение других субъектов к какому-либо событию или институту, с кем возможны прямые партнёрские, союзнические отношения (ближайшая «ступенька»), с кем через посредника, а с кем – пока невозможны, так как одна из промежуточных свободных «ступенек» временно оказалась вообще незаполненной.
Как подобная процедура могла бы выглядеть на практике? Для ответа на этот вопрос используем мнения лидеров различных политических формирований, высказанные в период российско-чеченского военного конфликта конца 1994-го – начала 1995 годов. Так, политический субъект «А», выступающий за решение проблемы исключительно силовым путём, мог бы рассчитывать на:
– безоговорочную поддержку Русского национального единства (А. Баркашов: «Русское государство справедливо защищает себя от попыток расчленить его»); Конгресса русских общин (Д. Рогозин: «Военные действия в Чечне – неизбежное зло, на которое идёт любое государство, если хочет быть сильным»); Либерально-демократической партии России (В. Жириновский: «Власть вправе наказать виновных в преступлении перед государством – сепаратизме»);
– незначительную поддержку при определённых условиях Либерально-демократического союза (Б. Фёдоров: «Ввод войск оправдан, но методы и средства, которыми действовали представители Центра и армии, недопустимы»); Российского социал-демократического союза (В. Липицкий. А. Оболенский, В. Юргенс: «Вывести сегодня войска означает укрепить позиции Дудаева. Речь должна идти о постепенном превращении их миссии из агрессивной в миротворческую»);
– нейтральную позицию при затрате значительных посреднических усилий демократического выбора России (Е. Гайдар: «Силовой метод решения конфликта надо обратить в политический»); Коммунистической партии РФ (Г. Зюганов: «Войну остановить. Возобновить переговорный процесс»);
– откровенное противодействие. Фракция «Яблоко» (Г. Явлинский: «Война в Чечне – позор. Президента и правительство отправить немедленно в отставку. Войска должны исполнять чисто миротворческие функции»).
Продолжая анализ понятия редукции конфликта, следует разобраться с некоторыми терминами, которые активно использовались различными силами в переходный период. Одни призывали к диалогу, другие – к консенсусу, третьи – к консолидации.
Но анализ показывает, что в большинстве случаев это были всего лишь лозунги и что у их авторов отсутствовало понимание реального пути урегулирования конфликта. На первый план часто выступала очередная идеологема, то есть что предстоит урегулировать. И гораздо меньше внимания уделялось тому, каким образом желаемое произойдёт.
Выстраивая некоторую систему, начнём с термина «конфронтация» (противоборство, противопоставление), то есть с того, что наличествовало в обществе и ни у кого не вызывало сомнений. Но каким образом от этого состояния перейти к «консолидации», предполагающей сплочение, объединение? Прямая постановка такой задачи утопична и не ведёт к разрешению конфликта.
Маловероятен и быстрый переход к «согласию» (консенсусу), подразумевающему сходство или единство взглядов относительно каких-либо значимых моментов. Видимо, предшествовать всему должен «диалог» или обычный разговор, обмен идеями. Вырисовывается вполне определённая последовательность действий, а именно: конфронтация – диалог – консенсус – консолидация.
*А*Н*0*Н*С*
Итак, мы кратко обозначили логику и стадии управления конфликтным процессом. А следующая статья серии будет посвящена вещам ещё более конкретным – конфликтологическим технологиям.
Окончание в следующем номере
***
1 - Продолжение. Начало: «Социум» 1995, № 6. «Азы и буки спора».
Ещё в главе «Идеи - дела - судьбы»:
Г-н А ± Г-н В = популярная конфликтология
Любимый город может спать спокойно?
