К свету порыв не сильней ли в темнейшие лета?
Бывшее, но не сбывшееся. О «русском марксизме» и его удивительной судьбе
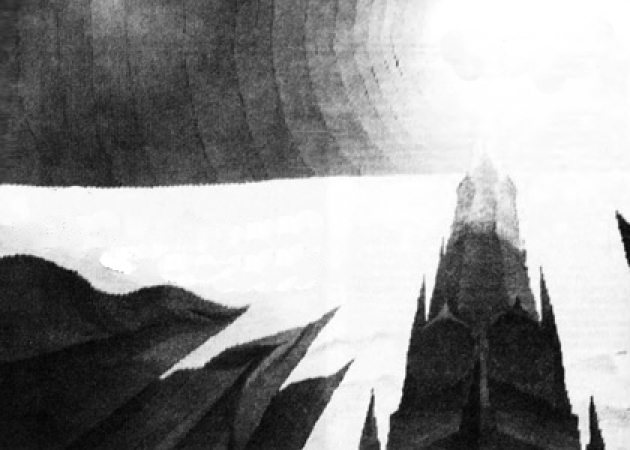
Известно мнение Р. Дарендорфа, знаменитого современного обществоведа, о том, что в своих лучших проявлениях XX век был социал-демократическим1. Наверное, это сказано слишком сильно. Было кое-что и другое. Но то, что картина нашего столетия писалась и социал-демократическими красками, что, несмотря на падения и неудачи, европейская социал-демократия стала одним из столпов современной западной цивилизации, это очевидно. К сожалению, к нам слова Р. Дарендорфа не относятся. Русский XX век обошёлся без социальной демократии (впрочем, он отвернулся и от многого иного). И хотя в конце 1917 года к власти у нас пришла партия, именовавшая себя «российской социал-демократической», это был лишь псевдоним или, точнее, благопристойная маска, за которой скрывалась сила, по сути дела, не имевшая ничего общего с идеями социал-демократии и прежде всего – может быть, это покажется странным – именно русской социал-демократии.
Почему именно русской социал-демократии? В сущности, поискам ответа на этот вопрос и посвящена предлагаемая работа. Но прежде несколько предварительных замечаний.
Во-первых, судьба отечественной социал-демократии интересует меня не сама по себе, а в контексте истории русской политической культуры и политической мысли пореформенного периода. И это вовсе не авторская прихоть, я убеждён, что такой подход к теме создаст предпосылки для лучшего её раскрытия. Во-вторых, говоря о специфике «нашенской» социал-демократии, с неизбежностью упираешься в проблематику коренного своеобразия Русской революции. А это, в свою очередь, сразу же обозначает главные направления, по которым должен вестись исследовательский поиск, – «русское просвещение», «освободительное движение» и так далее.
В-третьих, отдавая себе отчёт в том, что понятия «марксизм» и «социал-демократия» даже сто лет назад не были идентичными, хотя, конечно, очень и очень близкими, я буду употреблять их как синонимы. Для России рубежа XIX – XX веков это оправдано. Все члены социал-демократических кружков, а затем и партии исповедовали марксизм, все марксисты или были членами социал-демократических организаций, или близко стояли к ним.
«Но позвольте, – могут возразить мне, – ведь марксизм – это мифология, принарядившаяся в наукообразные одёжки. И в этом своём качестве давно развенчан».
Действительно, подобная оценка марксизма широко известна, а в нашей стране постепенно становится господствующей. Кроме того, именно марксизм и марксистов винят во всех бедствиях, обрушившихся на Россию в XX столетии. Мне не хотелось бы спорить на эту тему, в особенности потому, что в роли наиболее грозных обвинителей и ниспровергателей марксизма большей частью выступают его вчерашние «теоретики» и певцы. Или же – люди, «втайне» не любившие марксизм, но игравшие по правилам предписанной игры; когда пошла новая игра, эти самые люди с наслаждением стали пинать предмет былой своей нелюбви. И всё бы ничего, но вот только смущает: ведь поношение марксизма – это правила новой игры.
Однако не могу отрицать, что советские люди имеют право с недоверием (в лучшем случае) относиться к марксизму. И к тем авторам, которые хотели бы спокойно и объективно анализировать его. А в особенности к тем, кто смеет предположить (я-то просто утверждаю), что марксизм в истории русской культуры и мысли был не одним лишь проклятием и несчастьем (хотя и этим тоже), но и очень важным, плодотворным «моментом» развития.
Более того, «моментом» во многих отношениях поворотным, причём не в сторону семидесятилетнего нашего рейха, а как раз в противоположную.
Понимаю, что трудно в это сейчас поверить. Об этом трудно даже думать. Вот почему: помимо ценности саморефлексии как таковой, я зову читателя прислушаться к голосам мыслителей, сказавших об этом учении немало разоблачающего, но сумевших в общем и целом остаться свободными как будучи марксистами, так и переставши ими быть. Я зову прислушаться к их голосам, потому что все мы, за ничтожным исключением, в своём самоопределении, в своём выборе, в поиске новой самоидентичности слишком несвободны, слишком повязаны не теорией даже (какая там теория!), скорее практикой того, что победительно вошло в нашу жизнь в Октябре семнадцатого, что стало нашей жизнью и что принято называть «марксизмом-ленинизмом». И несвободны, к сожалению, не только мы, покорные и трусливые рабы, лишь начинающие (начинающие ли?) распрямляться, но и мужественные борцы с ним. Пока и их свобода носит по преимуществу негативный характер.
«Незаменимая школа политического и социального реализма»
В истории русской предреволюционной мысли меня всегда занимал один любопытный факт. Целая плеяда её ведущих представителей испытала в молодости сильнейшее увлечение марксизмом и активно работала в рядах социал-демократии. Это: Н. А. Бердяев (год рождения 1874), С. И. Булгаков (1871), А. С. Изгоев (1872), Б. А. Кистяковский (1868), П. Б. Струве (1870), С. Л. Франк (1878), Г. Г. Шпет (1879) и другие. Заметим для себя, что в этом, разумеется, далеко не полном, но весьма репрезентативном списке шесть из семи авторов «Вех», одного из значительнейших документов отечественного самосознания и самопознания, а также то, что все эти люди родились примерно в одно десятилетие (конец 60-х – конец 70-х годов). Знаменательно и то, что вся эта группа полностью и окончательно порвала с социал-демократией к революции 1905 года.
Итак, чем же можно объяснить этот факт? «Детской болезнью левизны» – кто в двадцать лет не был революционером, ниспровергателем существующих порядков, обличителем социального зла и искателем земного рая? Модой на марксизм, которая пришлась в России как раз на молодость этого поколения? Новизной марксистских идей, их «научностью» и «наукообразностью»? Коллективистским началом, заложенным в марксизме и нашедшим отклик в коллективистской психике русской культуры? Утопическим проективизмом марксизма, до определённой степени созвучным утопическому проективизму отечественной мысли? Наверное, каждое из этих объяснений в той или иной мере справедливо. Наверное, можно привести и другие причины и резоны.
Но особый интерес представляет, безусловно, саморефлексия этих людей. Что впоследствии думали они по поводу своего марксистского, социал-демократического прошлого? Как, придя уже на другие мировоззренческие и интеллектуальные позиции, объясняли случившееся с ними в начале жизни?
В «Самопознании» Бердяева мы можем прочесть: «Я не раз задавал себе вопрос, что побудило меня стать марксистом, хотя и не ортодоксальным, а свободомыслящим? Вопрос сложный. Особая чувствительность к марксизму осталась у меня и доныне. Я не мог примкнуть к социалистам-народникам и к социалистам-революционерам, как они стали именоваться. Мне был чужд психологический тип старых русских революционеров... Кроме того, меня отталкивал пункт о терроре, к которому я всегда относился отрицательно. Марксизм обозначал совершенно новую формацию, он был кризисом русской интеллигенции. В конце 90-х годов образовалось марксистское течение, которое стояло на гораздо более высоком культурном уровне, чем другие течения революционной интеллигенции. Это был тип, мало похожий на тот, из которого впоследствии вышел большевизм. Я стал критическим марксистом, и это дало мне возможность остаться идеалистом в философии. Произошла дифференциация разных сфер и освобождение сферы духовной культуры. Марксизм того времени этому способствовал. В марксизме меня более всего пленил исторический размах, широта мировых перспектив. По сравнению с марксизмом старый русский социализм представлялся явлением провинциальным. Марксизм конца 90-х годов был, несомненно, процессом европеизации русской интеллигенции, приобщением её к западным течениям, выходом на большой простор»2.
С. Н. Булгаков же был твёрдо убеждён в том, что «после политического удушья 80-х годов марксизм представлял собой источник бодрости, деятельного оптимизма, боевой клич молодой России, как бы общественное бродило. Он усвоил и с настойчивой энергией пропагандировал определённый, освещённый вековым опытом Запада практический способ действия, а вместе с тем он оживил упавшую было в русском обществе веру в близость национального возрождения, указывая в экономической европеизации России верный путь к этому возрождению»3.
Вдумаемся в эти слова Бердяева и Булгакова.
Первое. Речь идёт не вообще о марксизме, не о марксизме «ортодоксальном», а о марксизме «критическом», свободомыслящем». То есть подразумевается, что имелись различные типы марксизма.
Второе. Именно критический, свободомыслящий марксизм выводил передовую русскую интеллигенцию на «большой простор», к «широте мировых перспектив». Выводил из провинциализма народничества, из его узкого и сектантского мышления, из кризиса отечественной социалистической идеологии. Такой марксизм был формой европеизации русской интеллигенции.
Третье. Он позволял «встать на более высокий культурный уровень», «остаться идеалистом в философии»; способствовал «освобождению сферы духовной культуры» из-под ига вульгарного и наивного социологизма, характерного для традиционно-народнического менталитета.
Четвёртое. Марксизм Бердяева, Булгакова, Струве и им подобных был одновременно и способом, формой, идейным научным обоснованием отказа от террора, который искушал отечественную интеллигенцию на протяжении всей её истории. Этот марксизм получил в 90-е годы название легального. И хотя тогда в понятие «легальный марксизм» вкладывался другой смысл, появление этого терминa далеко не случайно. Я убеждён, что и В. И. Ленин, и Г. В. Плеханов (да-да, и он тоже; но это особая тема – «неленинский, меньшевистский марксизм и террор»), и ряд других русских социал-демократов, пустив в публицистический оборот – с целью размежевания со своими оппонентами и дискредитации их – словосочетание «легальный марксизм», не осознавали того, что попали в точку. Хотели сказать одно, а сказали совсем иное. Тот марксизм действительно был легальным, в самом прямом смысле. Он основывался на принципах права и законности, легальности и легитимности и потому органически отвергал террор.
Пятое. В последнее десятилетие XIX века для многих представителей нового поколения отечественной интеллигенции марксизм стал «общественным бродилом», «источником бодрости и деятельного оптимизма... молодой России», вселявшим веру и указывавшим пути национального возрождения. Парадоксальным образом это космополитическое, многонациональное учение оказалось для русского ума школой практического патриотизма. Не казённого и пошлого, не шовинистического и мечтательного, коего на Руси всегда и по сей день переизбыток, а живого, деятельного, здорового, культурного. А от такого патриотизма было уже рукой подать до государственной идеи...
Но не будем спешить, ибо здесь мы подступаем к крайне важной теме: как критический марксизм подготовил русскую интеллигенцию к восприятию государственной идеи, которая, в свою очередь, стала новой для России государственной идеей.
В основном эта тема разрабатывалась двумя замечательными мыслителями – П. Б. Струве и А. С. Изгоевым. Но интересны они, разумеется, не только как теоретики новой государственной идеи. Более того, саму эту идею целесообразно рассматривать в таком контексте: «А. С. Изгоев о марксизме» и «П. Б. Струве и марксизм».
.jpg)
Рисунок: К. Воскобойников
Сначала об А. С. Изгоеве. В августе 1909 года, когда нападки (со всех сторон) на «Вехи» достигли апогея, он пишет статью, в которой пытается объясниться с социал-демократической интеллигенцией и прояснить свою позицию. Работа так и называется: «Интеллигенция и «Beхи»4.Помимо прочего эта статья была глубокой рефлексией по поводу социал-демократического и марксистского прошлого автора. Мне трудно назвать другой источник, в котором бы столь же ярко говорилось о роли и значении марксизма для отечественной мысли, культуры, истории.
По мнению Изгоева, «русский марксизм... сыграл огромную и очень благотворную роль в истории общественного развития... В России марксизм был воспринят преимущественно интеллигенцией и стал для неё незаменимой школой политического и социального реализма. В тесные кружки интеллигентской молодёжи, жившей где-то на седьмом небе от грешной земли, в своём воображении создавшей фантастические миры, фантастический народ, брошен был действительно луч света, зерно настоящей науки.
.jpg)
От кружковщины к кружовщине
В то время, как эта молодежь фантазировала на все лады о превращении страны с тысячелетней историей, с многомиллионными народами в социалистический рай, ей указали, что европейский социализм – это продукт многовекового экономического развития, следующего своим законам, не считающимся с желаниями и фантазиями кучки интеллигентов.
Интеллигенцию приглашали отречься от чрезмерной субъективности, изучать явления жизни не сквозь призму их желательности или нежелательности, а разыскивать подлинные социальные силы, те, которые на caмом деле приводят в движение народы и государства и влекут за собой социальные и политические перевороты. Эти силы интеллигенции предлагалось искать в ходе экономического развития страны»5.
Конечно, сегодняшнего посткоммунистического читателя может несколько смутить экономическо-детерминистическая риторика А. С. Изгоева. Но не в ней дело; это скорее дань времени и языку эпохи. Существенно другое. В этом отрывке русскому марксизму 90-х годов даётся чуть ли не наиболее значимая характеристика – «незаменимая школа политического и социального реализма» для интеллигенции. Да, школа политического и социального реализма, в которую пошла культура, насквозь пропитанная мифологизмом и утопизмом.
В 1912 году, давно уже перестав быть марксистом, Б. А. Кистяковский, один из крупнейших отечественных юристов начала века, так оценивал эту доктрину: «попытка научно-систематического объяснения социальных явлений»6. «В методологическом отношении, – писал он, – экономический материализм (то есть марксизм. – Ю. П.) стоит несравненно выше натуралистического направления в исследовании социальных явлений (то есть органической теории общества, в различных своих версиях господствовавшей в XIX в. – Ю. П.). Он стремится из недр социально-научного знания конструировать объяснение социального процесса и социального развития. Свои основные понятия экономический материализм берёт из политической экономии и таким образом оперирует по преимуществу с социально-научными понятиями. В общем, он представляет из себя чисто социально-научное построение. Только в немногих случаях естественнонаучные понятия играют в нём недолжную, методологически неправомерную роль. Эти формально-логические и методологические достоинства экономического материализма дополняются и достоинствами предметного характера. Он впервые обратил внимание на многие социальные явления и отношения (подчёркнуто мною, – Ю. П.); им раньше не придавали значения и потому не замечали их. Благодаря его освещению эти явления предстали перед взором научных исследователей как настоящие открытия»7.
Мне кажется, что в этих словах Кистяковского очень точно «схвачено» то качество, то свойство марксизма, которое мы сегодня – по вполне, впрочем, повторяю, понятным причинам – упускаем из виду и о котором забываем. Марксизм действительно первым и «впервые обратил внимание на многие социальные явления и отношения»; до него им действительно «не придавали значения и потому не замечали их». Иначе говоря, главная и непреходящая (несмотря ни на что!) заслуга марксистской и Марксовой мысли заключается в постановке принципиально новых вопросов и формулировании принципиально новой проблематики. Другое дело те ответы, которые были даны на эти вопросы, и те способы решения проблем, которые были предложены. Хотя и здесь всё не так просто и однозначно, как это видится в наши дни. Что же касается вопросов и проблематики, то они сохранили своё значение и для мировой культуры XX столетия. Подтверждение этому мы можем найти не только в весьма влиятельных социал-демократических и неомарксистских концепциях, но и в интеллектуальных построениях, далёких от марксизма, однако постоянно занятых разрешением этих вопросов и этой проблематики.
.jpg)
Рисунок: М. Ларичев
Марксизм свободомыслящий, «легальный», «ревизионистский»
И ещё одно немаловажное обстоятельство для понимания уникальной и специфической роли «русского марксизма». Его верно подметил Изгоев: «Русский марксизм во многом отличался от западноевропейского и во многих отношениях предвосхитил его развитие. Для сведущих в этой области людей не подлежит, например, сомнению, что П. Б. Струве раньше и во многих отношениях ярче развил ревизионистские идеи, чем Эд. Бернштейн. 4Изгоев А. С. Интеллигенция и «Вехи». Русское общество и революция. М., 1910, с.3 – 11 5Изгоев А. С. Указ, соч., с. 4
Ключевое слово произнесено: «ревизионизм». «Критический», «свободомыслящий», «легальный» марксизм был марксизмом «ревизионистским». Этот и только этот марксизм оказался для русской интеллигенции «незаменимой школой политического и социального реализма» и всем тем, о чём уже было и будет сказано ниже. Этот и только этот марксизм подразумевается, когда я говорю: «русский марксизм». То есть «частичный», редуцированный, лишённый ореола всеобъемлющего и единственно верного объяснения истории, экономики, политики, вообще мироустройства, сведённый до уровня эвристической общественно-экономической модели, дополненный достижениями различных социальных наук, соединённый с современной философией, «очищенный» религиозными ценностями.
Однако возникают вопросы: каким образом марксизм Маркса и Энгельса превратился у нас в «русский марксизм» (повторяю – критический, свободомыслящий, «легальный») и почему мы опередили европейских социал-демократов в возведении здания ревизионизма? Ненамного, но опередили.
Прежде чем отвечать на эти, как мне кажется, серьёзнейшие для понимания русской истории пореформенного периода и Русской революции вопросы, я хотел бы сказать несколько слов в защиту ревизионизма как фундаментального принципа демократического открытого общества. В советском политическом словаре этот термин обладал негативными коннотациями, был чуть ли не бранным. И это не случайно. Русская послеоктябрьская культура, в которой мы прожили наши жизни, на дух не принимала идею ревизии, пересмотра, идею постоянной фальсификации (в смысле К. Поппера9) тех «ценностей», на которых она покоилась. Если что и генерировалось этой культурой, то принципы верности и незыблемости «первооснов». Всё остальное было факультативным, побочным, прикладным. С точки зрения исторической перспективности подобный социальный тип обречён, поскольку в нём не заложен механизм саморазвития, как раз и предполагающий всеобъемлющую ревизию и беспощадную рефлексию по поводу «первооснов». Такая культура крайне неустойчива, нежизнеспособна, не имеет пространства для социального манёвра. Стоило ревизионисту М. С. Горбачёву и его соратникам усомниться лишь в нескольких «священных» постулатах – и всё завалилось, рухнуло, бесповоротно ушло.
Напротив, «открытое общество» (опять же по К. Попперу) витально и перспективно потому, что базируется на принципе постоянного пересмотра своих «первооснов». Но ревизия в нём означает не беспринципный релятивизм, не абсолютизацию относительного, а неуклонную поверку «вечных ценностей» жизнью и поиск равновесия, синтеза этих ценностей и потребностей времени. Причём формула синтеза меняется в каждую эпоху.
Но вернёмся к русскому марксизму, который, как говорил Изгоев, «отличался от западноевропейского и во многих отношениях предвосхитил его развитие». В марксизм у нас пришла наиболее внутренне свободная, ориентированная на «широкие мировые перспективы», открытая для новых идей и ценностей молодёжь, которая, помимо прочего, не была связана, как, к примеру, немецкие ревизионисты, узами весьма жёсткой партийной дисциплины. Зарубежные ревнители чистоты марксистской догмы были от них далеко, свои ещё не оперились, и сама обстановка как бы способствовала свободному и творческому восприятию марксизма (единственное ограничение – начавшаяся война с народниками). Ведущий представитель отечественного ревизионизма Струве в статье с характерным названием «Против ортодоксальной нетерпимости» признавался: «Я не боюсь быть диким и брать то, что мне нужно, и у Канта, и у Фихте и у Маркса, и у Брентано, и у Родбертуса, и у Бем-Баверка, и у Лассаля»10. Или вот другое не менее характерное его же заявление: «Когда от меня требуют указать, интересы какого класса выражает философия Фихте, я чувствую, что от этого вопроса глупею».11
Хочу подчеркнуть: эти слова П. Б. Струве не есть свидетельство творческой всеядности, идейных «шатаний» и тому подобного. Нет, это голос свободного человека, не боявшегося говорить по-своему и, будучи крупнейшим теоретиком марксизма, ставить под вопрос даже принципиальные положения этого учения. Тот же П. Б. Струве совершенно справедливо отмечал, что «в «Критических заметках»12 была сделана первая в литературе марксизма попытка привлечь к развитию и обоснованию марксизма критическую философию; в них же были развиты взгляды, заключавшие в себе отрицание Zusammenbruchstheorie und Verelen dungstheorie (теории неизбежного краха капитализма и теории обнищания, – Ю. П.). Таким образом, основные мотивы критического поворота в марксизме были предвосхищены, правда, в очень несовершенной и рудиментарной, но всё-таки довольно явственной форме в моей книге 1894 года»13.
Надо сказать, что Бердяев очень точно охарактеризовал себя как свободомыслящего марксиста. Русские марксисты (ревизионисты, разумеется) сразу же разошлись с «классическим» марксизмом в понимании феномена свободы. Энгельсово определение свободы как осознанной необходимости в этой среде принято не было. Свобода, по утверждению Струве, беззаконна... Другого философского смысла, кроме отрицания необходимости и закономерности, слово «свобода» не имеет»14. И от несогласия с традиционными марксистскими представлениями по важнейшей мировоззренческой проблеме он шёл к выводу, что метафизическая часть марксизма должна разделить судьбу диалектики и материализма, оказавшихся одинаково несостоятельными перед судом философской критики»15.
Струве предлагал отбросить весь этот философский «хлам» – наивную метафизику, поверхностную диалектику, плоский материализм – и обратиться к Канту. С. Л. Франк в 1910 году, когда тема о необходимости «дополнения» Маркса Кантом вновь вспыхнула в российской социал-демократии, отмечал: «Вопрос об отношении между кантианством и марксизмом в России не нов; в некотором смысле он прямо исходит из России. По крайней мере впервые о нём заговорил Струве во вступительных главах своих «Критических заметок» (1894), и он первый среди марксистов призвал обновить философскую основу марксизма путём замены материализма критицизмом»16.
Об этом же пишет крупнейший американский историк-россиевед Р. Пайпс: «...В своих попытках заменить гегельянские элементы в марксизме неокантианской философией Струве оказался пионером. Ещё в студенческие годы он пытался сделать то, что в конце этого десятилетия (90-е годы – Ю. П.) превратилось в значительное теоретическое течение европейской социалистической мысли, а именно «критический», или кантианский марксизм»17. Но Р. Пайпс не совсем прав, когда утверждает, что в«классическом» марксизме П. Б. Струве обнаруживал лишь один дефект – «диалектику как чужеродный метафический элемент»18. Неудовлетворённость философской стороной Марксова учения вела его дальше: к критике и переосмыслению экономических, социальных, политических и правовых компонентов. Хотя, конечно, исходной позицией ревизионизма П. Б. Струве была философская «фальсификация» марксизма.
.jpg)
Кто сказал, что «Аврора» стреляла холостыми?! Рисунок: А. Меринов
Вслед за неокантианцем А. Рилем, чья книга «Философский критицизм и его значение для позитивной науки» оказала огромное воздействие на молодого русского социал-демократа, он утверждал, что гегелевская диалектика нарушает закон тождества и что этот закон, будучи переведённым на язык социологии, гласит: причина и следствие должны быть тождественными по содержанию и различны по форме. Таким образом, социализм как следствие развитого капитализма должен содержать его в себе. Струве, «используя рилевскую логику, с самого начала целиком и полностью отверг концепцию социальной революции как утопическую и усвоил идею эволюционного социализма, близкую фабианской. Критику доктрины социальной революции, с которой Бернштейн, основываясь на эмпирических фактах, выступил в конце 1890-х годов, Струве начал несколькими годами раньше, используя при этом логический анализ»19.
10Струве П. Б. Против ортодоксальной нетерпимости. Pro domo Sua. На разные темы. СПб., 1902, с. 302
11Там же
12Полное название книги П. Б. Струве – «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». Эта работа – выдающееся явление в истории русского марксизма. Она стала знаменем, с которым марксисты шли в бой с народниками. К тому же, как писал впоследствии авторитетный экономист Б. Бруцкус, в этой монографии молодой учёный с «действительной прозорливостью сумел верно определить сущность русского аграрного кризиса». (О природе русского аграрного кризиса. Сборник статей, посвящённых П. Б. Струве. Прага, 1925, с. 63). А это делало книгу событием национального масштаба, выводя её из «пределов» марксистской субкультуры. Ведь аграрный кризис имел ключевое значение для пореформенной истории.
Можно сказать, что в форме критики «классического» марксизма и народничества со стороны нарождающегося ревизионизма шёл процесс освобождения русской мысли от социального утопизма и мифологизма, шёл процесс её «взросления» (по Канту). Струве подчёркивал, что «под социализмом мы можем разуметь только идеальный строй, тогда как «мирской уклад» выдвигается с претензией на полную реальность. Социализм реален лишь постольку, поскольку он в отрицательных терминах воспроизводит капитализм»20. То есть в определённом смысле социализм, по П. Б. Струве, есть высшая стадия капитализма. Поэтому и движение к нему должно быть постепенным, эволюционным. «Социальные реформы, – говорил он, – составляют звенья, связывающие капитализм с тем строем, который его сменит, и – каков бы ни был политический характер того заключительного звена, которое явится гранью между двумя общественно-экономическими формами, – одна форма исторически вырастает из другой»21.
Знаменитый призыв П. Б. Струве – «пойдём на выучку к капитализму» – так же диктовался логикой социально-экономического и политико-правового реализма. По его словам, «капитализму принадлежит та историческая заслуга, что он на фундаменте неравномерного распределения создал производство, не мирящееся с этой неравномерностью и во имя своего существования её отрицающее»22. Мне хотелось бы, чтобы читатель обратил особое внимание на эту мысль Струве. Молодой русский учёный (написано им в 24 года) понял в капитализме, который есть не что иное, как хозяйственное измерение современного западного открытого общества, главную его черту – наличие механизма саморегулирования и саморазвития, «настраивающего» социум на постоянный поиск новой формулы синтеза фундаментальных принципов и потребностей времени. Этим и объясняется то, почему Струве стал столь яростным сторонником капитализма и «капитализации» России. У Р. Пайпса мы читаем: «Капитализм... должен принести с собой свободу23 и культуру. Ни один из русских мыслителей ни до, ни после Струве не возлагал таких надежд на капиталистический способ производства как на средство спасения страны от всех бедствий и болезней»24.

Рисунок: И. Смирнов
На основе публикации журнала «Октябрь»
---
1Dahrendorf R. Die Chancen der Krise: uber die Zukunft der Liberalismus. Stuttgart, 1983, s.16
2Бердяев Н. А. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). Париж, 1949, с. 125
3Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. СПб., 1903, с. VII
4Изгоев А. С. Интеллигенция и «Вехи». Русское общество и революция. М., 1910, с. 3 –11
5Изгоев А. С. Указ, соч., с. 4
6Кистяковский Б. А. Проблема и задача социально-научного познания. Социальные науки и право: Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. М., 1916, с. 15. Цитируемая статья написана автором в 1912 г. и впервые опубликована в «Вопросах Философии и психологии», М., 1912, кн. 112. Затем через 4 года включена в этот итоговый сборник статей
7Кистяковский Б. А. Указ, соч., с.15–16
8Изгоев А. С. Указ, соч., с. 4
9Карл Поппер – философ, социолог, логик. Один из наиболее выдающихся теоретиков либеральной демократии. Книга К. Поппера «Открытое общество и его враги» давно уже стала классикой современной демократической культуры. Попперовское «открытое общество» есть, по сути дела, синоним западного плюралистического социума, построенного на принципиальной перманентности конфликтных ситуаций как основе консенсуса и на принципиальном отказе от конструирования действительности согласно тому или иному «умозрительному» идеалу. Одним из характернейших признаков «открытого общества» является его способность к эмпирической проверке теоретических суждений». Если результат проверки показывает несоответствие теоретического суждения реальности, гипотеза или теория, из которой суждение дедуцировано, считается «фальсифицированной» и отбрасывается...» (История буржуазной социологии первой половины XX века. M., Наука, 1979, с. 268–269)
13Струве П. Б. Против ортодоксальной нетерпимости, с. 300–301
14Струве П. Б. Свобода и историческая необходимость. «Вопросы философии и психологии». СПб., 1897, № 1, кн.36, с.125
15Струве П. Б. Предисловие к книге Бердяева. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о И. К. Михайловском. СПб., 1901, с. VII
16Франк С. Л. Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии культуры. СПб., 1910, с. 348
17Pipes R.Struve: Liberal on the Left, 1870–1905.Cambridge, 1970, p. 5
18Pipes R. Op.cit
19Ibid.. р. 59
20Струве П. Б. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России, с. 32
21Там же, с. 116
22Там же, с. 1 30–131
23Тот же Р. Пайпс очень точно устанавливает различие в понимании свободы «ортодоксальными» марксистами и ревизионистами: «Для Плеханова или Аксельрода политическая свобода представляла собой стадию на пути к классовой войне, для Струве же классовая война в лучшем случае была промежуточной станцией на пути к политической свободе» (Ор. cit. р. 59–60)
24Pipes R. Op. cit. р. 64
Ещё в главе «Наука - политика - практика»:
Бывшее, но не сбывшееся. О «русском марксизме» и его удивительной судьбе
